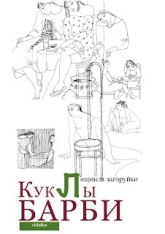|
|
|
|||
| Русская премия . | |||
– На что вы потратите свою премию? – вдруг спрашивают у меня. Отвечаю мгновенно: «На ботинки». Ответ само собой вырывается из недр моего ещё бурного естества. Блин, я хотела сказать что-то умное, соответствующее торжественности момента, угодить учредителям, распрощаться, наконец, со своей репутацией хулиганки, плавно перейти в состояние мудрой, много повидавшей на веку немолодой женщины, но осечка, опять заносит. Ботинки стоят рядом. Две красивые коробки с обувью, обтянутые ярким чулком пакетов. Я ещё там, в магазине, где час назад покупала подарок для мужа и заодно мне впарили сапожки. Когда мерила эту злополучную, ненужную пару, то уже знала, что безнадёжно, на всю оставшуюся жизнь больна. Я –.ШОПОГОЛИК. Зачем мне в селе, где непролазная грязь, бездорожье и булыжник, изящные ботиночки на каблучке? Мозг мой знал, подсказывал, ни на минуту не выключался, но душа и глаза… Они ему не доверяли. За витриной магазина расходились с первого городского новогоднего мероприятия стайки Дедов Морозов, в руке ещё был зажат леденец, подаренный весёлой детворой на Театральной площади. И эти две гурии… Они обхаживали меня, как царицу, угодливо подавали ложку для обуви, предлагали на выбор с десяток моделей. Как устоять, когда хочется праздника, радости, внимания, а тут всё букетом второй день подряд: внимание, комплименты, подарки. Ботинки я обула сразу. Они чуть сдавливали пятку и по бокам немного теснили. Ничего, это же не испанский сапог. То, что было на мне, испачкала уличная докучливая грязь. Старую обувь аккуратно уложили в новую коробку, на кассе предложили приобрести для мужа и себя очень качественные войлочные тапочки по 150 гривен за пару, но я проявила характер и наотрез отказалась. Дома мы ходим по двору в резиновых галошах. Наша лучшая модель – утеплённые шлёпанцы «чалапанки» синих, фиолетовых, коричневых цветов, в которых не грех и в магазин забежать. И вот я на пресс-конференции, сижу в обновке, лауреат Русской премии, которую мне вручил её попечитель Александр Викторович Гегальчий. Первое моё признание, высказанное вслух и подкреплённое материально. Информацию о Русской премии, большой, московской, нашла в Интернете давно. Нашу – обнаружила сравнительно недавно. Смотрю на фото попечителя и думаю: живёт в Праге, в шортах – на Мальдивах, а лицом знаком, ужгородец. Где-то мы с ним, может, когда-то очень давно и пересекались, не помню. Ничего не помню. Слишком бурное время обрушилось в зрелости, многое не выдержало удара и стёрлось. Я думаю как же определить наше поколение оторванных от совковой реальности романтиков: наивное, чистое, бесшабашное и не нахожу подходящих слов. Мы все разные, ни в коей мере не похожие друг на друга, но что-то нас всех, немолодых и состоявшихся, разбросанных по миру, объединяет… Курт Воннегут, называл в своих книгах мысли людей, которые считают, что их объединяет место рождения, ложным карасом. Он признавал истинный карас – слияния душ. Если не умничать и перевести на понятный всем язык, то это, значит, ты мой земляк – я тебе всегда рад. Думаю, мы рады друг другу не потому, что родились и выросли в одном городе, а потому что он незримо, никуда не вмешиваясь, помог нам стать теми, кто мы есть. Он серьёзная составляющая нашей души. По Воннегуту выходит мы в истинном карасе. Во всей этой кутерьме внимания ко мне по чужому телефону меня востребовала незнакомая женщина, бухгалтер попечителя. Она говорит долго, она говорит эмоционально, сбивчиво, возвращается к мысли, уходит, теряется, чуть путается, вдруг понимаю, что она родная и знакомая, своя, наша, из того, давно отпраздновавшего беззаботную молодость племени ужгородцев. На узкой улочке, на секунду остановившись и перекрыв движение, громко сигналит из машины в честь меня и для меня художник Славик Габда, сын моей школьной учительницы. Знаменательное совпадение случайностей. Я вдруг понимаю, что могу говорить с этой женщиной часами и больше не в силах продолжать беседу. На мой город, в перекрёстке улиц Духновича и Волошина, на самой его маковке, спускаются холодные зимние сумерки. Там внизу, в Доме Офицеров, кружатся в вальсе мой отец, мечтающий получить образование в Москве, с ученицей вечерней школы, моей матерью. Они молоды, красивы и счастливы. Недавно ушла война. Вся жизнь без преград. Этот город для них чужой и никогда родным не станет, но случусь я, новая судьба и новая точка отсчёта. Завтра, 21 декабря, говорят, конец света. На всякий случай говорю своим друзьям и близким спасибо за то, что были рядом, терпели… Хотя об этом стоит говорить и без повода, просто так. Прости меня Оксана Гаврош за грубое слово, сказанное на затянувшейся до поздней ночи другой, не этой, вечеринке. Признаюсь тебе, дорогая девочка… Давно подозреваю, что твой номенклатурный дед круто повернул много лет назад мою судьбу. Думаю, что по его звонку меня уволили с телевидения, но ты-то тут не при чём.. Кстати, он тоже был себе не хозяин. А если переживу конец света, то наверное, снова возьмусь за перо, только очень боюсь – получится ли? Людмила Загоруйко, Закарпаття онлайн. Блоги. 20 декабря 2012г |
|||
| Ужгород мне не снится. | |||
Ужгород мне не снится, как отрезало. Мне вообще давно перестали сниться
сны. Вернее, что-то я вижу, но вот как ни стараюсь припомнить, ничего
не получается. Как будто в голове гонит ветер обрывки скомканных газет
и летят они неведомо куда, а поймать хоть клочок никак не удаётся. Людмила Загоруйко, Закарпаття онлайн.Блоги 26 марта 2012г. |
|||
Евреи в жизни одной женщины. –
Хочу замуж за еврея, но ненадолго – кричала я, сидя на скамье в сауне,
– понимаете, я хочу замуж. Сначала был дом В этот дом мы перебирались, неся нехитрую поклажу в руках: узлы и узелки, тумбочки, этажерки и табуретки. Путь был недлинный, с начала улицы – в её конец. С этого дня у бывшего фронтовика, в мирное время «государственного хлебного инспектора», и его жены домохозяйки, началась иная, лучшая, жизнь. Луганск, Умань, Ужгород. За пять лет – несколько переездов. И куда? В самую западную точку Союза. Бабушка волновалась, и ехать не хотела. «Так надо» – сказал дед, и они снялись с места. Член партии, он верил, что во благо, и поехал поднимать сельское хозяйство новой области. Понемногу обживались. В квартире появился диван, гордость нашей бабушки и спальное место для меня, внучки, потом большой ламповый радиоприёмник. Он шипел, как живое существо, и бабушка, чтобы подчеркнуть его значимость, особый социальный статус, вышила гладью большую салфетку с зубчиками-фестонами. Салфетку положили на новую массивную тумбу с круглыми боками, сверху поставили приёмник, и несколько раз в день, ритуал, сметали с него пыль. У соседки бабы Нали гостиная – настоящий музей: изящный книжный шкаф на маленьких ножках, во всю стену - резной буфет в благородном мерцании зеркал и стёкол, с множеством шкафчиков, ящичков, тайных и явных, добротный стол с шестью стульями и люстра, свисающая с потолка. Мебель глянцевая, чёрная, и, по радостному утверждению соседки, трофейная, оставшаяся от бывших жильцов, не то эмигрировавших, не то сосланных сразу после прихода в Закарпатье советских войск, иными словами - дармовая. Как тут не радоваться: уникальный антикварный гарнитур и ты его полноправный владелец. Над историей его происхождения и смыслом преемственности никто не задумывался. К имуществу никто особо не прикипал, да и не было его ни у кого. Война научила обходиться тем, что вмещалось в чемодан. У моей подруги Жени диваны и кресла ярко-алые (тоже – от «бывших»), потолки с лепниной и распашные двери из зала в спальню, через которые виден профиль епископской резиденции в ореоле неба. Из Женькиной царской квартиры, где всё не признавало нас и отторгало, ну золушки, дети оккупантов, нелюбимые, мы с облегчением перебирались на самый первый этаж, вровень с внутренним двориком, уже загаженным совковым гастрономом. Там, в каморке почти без дневного света, где узнаваемо пахло сыростью, а значит бедностью и безысходностью, ютилась семья бывшей консьержки дома, Юлишки. Бесшабашный Васька, её внук, был нашим героем и другом. У Васьки был русский отец, мадьярка мать, и, по сему, он свободно вписывался в ужгородский социум - свой для тех и других. Юлишка, совсем старая, слепая, помнившая ковровые дорожки в парадном, нас пугала. Другое дело - Васька. Он зимой и летом ходил по мраморным лестницам дома босиком, таскал нас по дворам и подворотням, заставлял подниматься на замковые стены, есть копеечную тюльку с чёрным хлебом, одним словом, опекал. Мы с Женькой слушались его беспрекословно - предводитель. Мы тайком лазили на чердак, извлекая из куч, беспорядочно брошенного враз исчезнувшими жильцами хлама, удивительные вещи. Это были книги в благородных переплётах, написанные по-венгерски и латиницей, медные подсвечники, потемневшие латунные ручки, изящные пузыри-бутылки. Боже, чего там только не было… Летом лазили на крышу. Пыль и зной чердака бил в нос, кружил голову. Мы карабкались по хрупкой деревянной лестнице, потом на площадку, с середины которой через пыльное стекло был виден весь лестничный шаг, потом ещё выше, уже пригнувшись, по короткой лестнице, открывали люк… и становились невесомыми. Ветер не щадя трепал юбчонки, жарко обдувая тело, солнце казалось почти рядом. Мы притихали. Смотрели на терракоту крыш, островки зелени и сине-бледную дымку гор, как обрамление пейзажа. Под нами, в размётке улиц и площадей двигались игрушки-люди, блестела чешуя реки. Чтоб этот весь мир не распался на части и не исчез, был вечно реален, видим и осязаем, его держали, как стражники, окружив со всех сторон мощными мазками-акцентами, соборные шпили. «Мать, родная, тебе полевые цветы» – это наш дед в чесучовом белом костюме, в соломенной, по-хулигански набекрень шляпе с цветами для нашей бабушки в вытянутой руке, торжественным, «солдатским», по определению самого деда шагом, марширует по балкону: раз-два… раз-два… В букете васильки и колоски пшеницы. Бабушка встречает чудачества деда сдержанно. Дедуля у нас любитель пропустить в магазине «Карпаты» не один стаканчик «крепачка» и предусмотрительно прихватить бутылочку с собой для поддержания ночного бдения. Для меня у него конфеты «Детское счастье», которые я не люблю, но ем, чтоб не обидеть деда. Чтоб бабушка не нашла, дед засовывает в кафельные печки, благо в комнатах их две, бутылки с «крепаком», и подмигивает мне: мол, не продай, заговор на двоих. Для прочности нашего союза наливает немного на пробу. И мы втихую прикладываемся к стаканчику, он – большому, у меня – напёрсток. Деда я всё-таки закладываю. Дед знает, но зла на меня не держит. Мой настоящий дед погиб под Сталинградом. Я твёрдо уверена, что кровный дедуля, к «крепаку» так рьяно не прикладывался. Он у нас был благородных кровей. Слово кадет для меня даже не информация, а неиспользованный пароль к тайне нашей семьи. Что с ней случилось после революции, мы не знаем. Единственный участник событий, сучок на генеалогическом древе, который мог бы пролить свет на тайну, лежит на Волге в братской могиле. У нас, как доказательство, примета, по которой можно только распознать породу, – старинный дагерротип, с которого строго смотрит крупная женщина с внушительным кулоном на груди. «Свекровь нашей Кати» – подписывает фото в алкогольном сумбуре наш дед. «Дети в школу собирайтесь, петушок давно пропел». Как не нравились мне эти громкие сигналы живого будильника. Но уже в кухне натоплена печь, пышет жаром картошка. Дед наказывает в напутственном слове принести полный портфель пятёрок, обязательно говорит: «С богом», легонько подталкивая к выходу, лети мол, птичка. Помню его растерянное лицо: перепутав классы, он всё родительское собрание слушал жалобы классной руководительницы на чужого ребёнка. «Ваша девочка?» «Моя». Ошибку он понял, но ради меня,– скажут непутёвый дед, – не признался, и вёл себя как на войне, приняв огонь за всех хулиганистых и непокорных девчонок. Я была из них. Какая же разница за кого получать? Он всегда слышал, как я бегу по лестнице из школы: почти одновременно открывал входную и дверь в туалет, как вратарь принимал на себя летящий по коридору портфель и ликовал. Молодость рядом! Он защищал меня от бабушкиного гнева. Знатно чихал по нескольку десятков раз подряд на весь подъезд, разбавляя громовые чихи, виртуозным тяжелым матом. Убегал из дому, когда бабушка топила котят, называя её грешницей и убийцей. Таскал меня за собой по элеватору, заставляя пробовать зерно на вкус. Словом, был незаменим, капризен, вздорен, вечно пьян и вечно неуёмен. В доме ещё ютились в коммуналках. Ещё народ не разжирел и был контактен и в меру доброжелателен, в меру завистлив и отзывчив, словом, люди как люди, ничего особенного, но со своим бытом, своим размеренным неспешным ритмом. Стирка тоже была коллективным явлением. На чердаке – своя прачечная с котлом, цементными полами, скамейками и шайками. Летом прачечная использовалась и как семейная баня, горячей воды в котле было вдоволь, шайки под рукой, плескайся в удовольствие. Потом бабушка шла вниз и предлагала соседям баню, не пропадать же оставшейся тёплой воде. Дом наш был расположен квадратом. От квартиры к квартире – узенький внутренний балкончик всегда в буйной зелени. От двери до двери – метра четыре, пять. Кухонные окна – тоже выходили на внутренний балкон. Сразу за балконами-тропинками - колодец внутреннего дворика. В знойные дни дом затихал. Ни души. Разомлев после бани, бабушка накручивает на голову тюрбан из полотенца, вторым повязывает бёдра и полунагая идёт к бабе Нале. «Ступай купаться» – строго говорит она и для большей убедительности подбоченивается: вылитая кустодиевская купчиха - румяная, крепкая и крупная. «Борисовна, что ты!» – всплескивает баба Наля ладошками, и они дружно и радостно хохочут. Бабушка, бесстыдно не прикрытая, величаво медленно идёт назад по балкону. Бёдра плавно ходят, вся она монолит, богиня, и я тихо с лёгкой завистью вздыхаю. Куда мне до неё, не та порода – размен рубля на мелочь. Бабушкина подруга Наля из тех, кто всегда в курсе чужих дел. И неизвестно кем она была больше – подругой или тайным врагом-конкуренткой в состязании: у кого лучше обед, белоснежней бельё, покладистей муж, счастливей дети, и дальше по цепочке, внуки. Дядя Миша, муж подруги Нали, вызывал зависть всех жён в доме. Фигура. Первый в послевоенной истории начальник Ужгородского аэропорта. Он был добрейшим человеком, играл по вечерам на гармошке прямо у входа в квартиру, называл жену милкой, и был настолько непритязателен, что на отсутствие в положенное время обеда на столе, реагировал мирно и с шуткой. Он и ушёл тихо, чтоб не доставить беспокойства семье. Наля постучала нам в окно ночью, и мы всё поняли, открыли двери и коротали с ней ночь до утра, чтоб не одна, чтоб за чашкой чая с сахаром вприкуску. Утром она тихо ушла по балкону хлопотать. И всё было без лишних слёз и слов, но торжественность и таинство, и даже величие смерти в этих односложиях и разговорах полушёпотом, присутствовали, были сохранены и соблюдены. Откуда это у них? Ведь полуграмотные русские бабки, войной вымученные, лишениями замордованные, но крепкие как лесные орешки, словом, бывалые. Как пришли они к знанию и мудрости, простоте и щедрости? И я поняла, и увидела, и запомнила их такими в ту ночь. Повзрослевшая и заметавшаяся в хлопотах - у меня уже рос первенец - я вдруг однажды увидела на балконе бабу Налю - пожелтевшую, безучастную ко всему. Вскоре она умерла. Её единственная дочь и внучка жили в Минске. С пропиской внучки они не успели на два часа. В какую-то важную тогда контору весть о смерти главной квартиросъёмщицы просочилась мгновенно. Всё. Не было тогда приватизации. Бабушка моя переживала, но не забыла прихватить под фартук в разгар поминальной беготни из кухни в кухню, любимую Налину чугунную сковородку. «Не будут же они её в Минск тащить» – сказала она даже не мне, а так, в никуда. Я не ответила, промолчала. Только вдруг вспомнилось, как в долгие зимние вечера, когда бабушка поздно возвращалась с работы, баба Наля и наш дед пекли в золе кафельной печки картошку к позднему ужину. Ставили широкий табурет, накрытый белоснежным льняным полотенцем. На нём чудом умещались миска со знаменитой бабушкиной квашеной капустой, хрустящей, облитой ароматным подсолнечным маслом, доставленным оказией с Украины, присдобренной злым зимним луком, кастрюлька с картофельным лакомством и даже тарелки. Мы усаживались вчетвером вокруг табуретки и пировали. Расходиться не спешили, ещё чаёвничали. А уж потом… Ну спёрла она эту сковородку. Подруги же. А может, конкурентки и в мире ином. «Уберите из подъезда уголь. Сейчас невеста выйдет» – голосила в парадном нашего дома ещё одна, но уже эпизодическая в моей жизни, бабушка моей подруги Людмилы. То, что в день моей свадьбы в магазин «Карпаты» как раз привезли гору угля, и не собирались его убирать, я узнала намного позже. И что это плохая примета баба Мотя просветила меня тоже не сразу, боялась сглазить. И разгребаю этот клятый, уже виртуальный, уголь я всю жизнь. Не уберёг всё-таки дом. А может, и не любил он меня, а просто терпел. Не те корни, не австро-венгерские. Только через годы я поняла кто мы такие в этом доме: завоеватели с чуждой культурой, способом жизни, устоями и нравственностью. Чужаки, чужинцы. Наверное, он нас никогда не любил. Но я его люблю. Безответно, тихо и печально. Здесь прошли золотые мои годы. Отсюда – в детский сад, первый раз в первый класс, на два свои выпускные, под венец, в роддом. Отсюда – провожала в последний путь родных. Да так ли безучастен был дом к моей судьбе? Нет, и он внёс лепту, определил что-то своё: ведь какая крыша, такой и получился-таки характер, не вписывающийся в норму… А что такое, норма, я до сих пор и не знаю. |
|||
 |
|||
|
...Взрывной
характер, рыжая копна волос на голове, очки от близорукости для горящих
глаз,
все это атрибуты
образа, от которого покоя
не жди. Толстовский стиль, изысканные детали, мажор, юмор, романтика
- это все Она и ее рассказы! |
|||
О
чем пишет автор?
О ком? Сюжеты и герои из жизни... Филолог по образованию Людмила Загоруйко писать начала в зрелом возрасте.
Ее первая книга «Евреи в жизни одной женщины» в год выхода, получила
первую премию в номинации «проза» на закарпатском фестивале «Книга-Фест». Куклы Барби, или Ещё раз о старости. – Конечно, конечно. Он рядом со мной сидел, – утвердительно закивала с соседнего сидения другая кукла Барби. – И Люсенька тоже была, племянница, – эхом отозвалась следующая. – А губки как славно у неё сложились. Глазки тоже закрыты хорошо. Вы заметили? – как бы впадая в сомнамбулический транс, включилась последняя. – Носик, какой славный, как припудренный, – транс оказался заразный, в него, как в омут, окунулась первая. Разговор как бы снова пошёл по кругу. "О чём они бредят?" – подумала я. И тут меня осенило. Глазки закрыты... Сомнений нет: почти бесплотные ангелы-бабушки возвращались с похорон и поминок. По всему, чувствовали они себя прекрасно: счастливы, а главное, живы. От приятельницы, с которой совсем недавно они гуськом и рядком ходили на прогулки, осталось лёгкое воспоминание, чувство сытости и ещё что-то, укладывающееся в их сознании в несколько штрихов: носик, губки, причёска. Всё. Больше бабушки ничего не помнили. Они долго жили и уже достигли состояния, когда ты ещё не там, продолжаешь двигаться по инерции, но и не совсем тут. Уставший мозг по-детски радужно и нечётко, воспринимает окружающее. Они зависли где-то между тем и этим миром, задержались, и на фоне живых, страждущих, мечущихся и мучающихся, выглядели блаженно счастливыми. Встреча с симпатичными бабульками меня поразила. Как? Неужели это возможно? Я так тяжело отстаиваю своё право на место под солнцем, мечусь, страдаю, рву сердце, в итоге: лёгкая отрыжка на поминках, несколько вздохов и забвение? Возмутительно. Этого не должно быть и быть не должно. Моё ещё здоровое, полное сил естество отказывается верить. Но ведь будет. И никуда от этого не денешься. И стоит ли так судорожно добиваться того, что в итоге оказывается ненужным, цепляться за пустое, ломиться в двери, которые для тебя никогда не откроются... Может, просто тихо жить и наслаждаться. Я не знаю. Людмила Загоруйко, Закарпаття онлайн. Блоги 16 февраля 2011г. |
|||